Home > Stories > "The District Doctor" by Ivan Turgenev (1848)
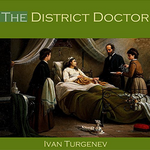 "The District Doctor" by Ivan Turgenev (1848)
"The District Doctor" by Ivan Turgenev (1848)
Friday 18 February 2022, by
A country doctor recounts a particularly moving experience – for him and for the reader – when he had been called out to visit in difficult conditions a peasant family whose young daughter had been taken seriously ill.
One of the most memorable stories in Turgenev’s collection of hunting tales A Sportsman’s Sketches [1], centered less on hunting and the beauties of nature than on the essential humanity of the serfs and poor people that he encountered in his many expeditions into the countryside. A set of stories that was influential in establishing a movement of opinion that led to the abolition of serfdom in Russia only a few years later, in 1861. (4,100 words)
Translated from the Russian by Constance Garnet.
An e-book, with the original Russian text in an annex, is available for downloading below.
The original Russian text can also be seen here.
THE DISTRICT DOCTOR
One day in autumn on my way back from a remote part of the country I caught cold and fell ill. Fortunately the fever attacked me in the district town at the inn; I sent for the doctor. In half-an-hour the district doctor appeared, a thin, dark-haired man of middle height. He prescribed me the usual sudorific, ordered a mustard-plaster to be put on, very deftly slid a five-ruble note up his sleeve, coughing drily and looking away as he did so, and then was getting up to go home, but somehow fell into talk and remained. I was exhausted with feverishness; I foresaw a sleepless night, and was glad of a little chat with a pleasant companion. Tea was served. My doctor began to converse freely. He was a sensible fellow, and expressed himself with vigour and some humour. Queer things happen in the world: you may live a long while with some people, and be on friendly terms with them, and never once speak openly with them from your soul; with others you have scarcely time to get acquainted, and all at once you are pouring out to him—or he to you—all your secrets, as though you were at confession. I don’t know how I gained the confidence of my new friend—anyway, with nothing to lead up to it, he told me a rather curious incident; and here I will report his tale for the information of the indulgent reader. I will try to tell it in the doctor’s own words.
“You don’t happen to know,” he began in a weak and quavering voice (the common result of the use of unmixed Berezov snuff); “you don’t happen to know the judge here, Mylov, Pavel Lukich?... You don’t know him?... Well, it’s all the same.” (He cleared his throat and rubbed his eyes.) “Well, you see, the thing happened, to tell you exactly without mistake, in Lent, at the very time of the thaws. I was sitting at his house—our judge’s, you know—playing preference. Our judge is a good fellow, and fond of playing preference. Suddenly” (the doctor made frequent use of this word, suddenly) “they tell me, ‘There’s a servant asking for you.’ I say, ‘What does he want?’ They say, He has brought a note—it must be from a patient.’ ‘Give me the note,’ I say. So it is from a patient—well and good—you understand—it’s our bread and butter... But this is how it was: a lady, a widow, writes to me; she says, ‘My daughter is dying. Come, for God’s sake!’ she says, ‘and the horses have been sent for you.’... Well, that’s all right. But she was twenty miles from the town, and it was midnight out of doors, and the roads in such a state, my word! And as she was poor herself, one could not expect more than two silver rubles, and even that problematic; and perhaps it might only be a matter of a roll of linen and a sack of oatmeal in payment. However, duty, you know, before everything: a fellow-creature may be dying. I hand over my cards at once to Kalliopin, the member of the provincial commission, and return home. I look; a wretched little trap was standing at the steps, with peasant’s horses, fat—too fat—and their coat as shaggy as felt; and the coachman sitting with his cap off out of respect. Well, I think to myself, ‘It’s clear, my friend, these patients aren’t rolling in riches.’... You smile; but I tell you, a poor man like me has to take everything into consideration... If the coachman sits like a prince, and doesn’t touch his cap, and even sneers at you behind his beard, and flicks his whip—then you may bet on six rubles. But this case, I saw, had a very different air. However, I think there’s no help for it; duty before everything. I snatch up the most necessary drugs, and set off. Will you believe it? I only just managed to get there at all. The road was infernal: streams, snow, watercourses, and the dyke had suddenly burst there—that was the worst of it!
However, I arrived at last. It was a little thatched house. There was a light in the windows; that meant they expected me. I was met by an old lady, very venerable, in a cap. ‘Save her!’ she says; ‘she is dying.’ I say, ‘Pray don’t distress yourself—Where is the invalid?’ ‘Come this way.’ I see a clean little room, a lamp in the corner; on the bed a girl of twenty, unconscious. She was in a burning heat, and breathing heavily—it was fever. There were two other girls, her sisters, scared and in tears. ‘Yesterday,’ they tell me, ‘she was perfectly well and had a good appetite; this morning she complained of her head, and this evening, suddenly, you see, like this.’ I say again: ‘Pray don’t be uneasy.’ It’s a doctor’s duty, you know—and I went up to her and bled her, told them to put on a mustard-plaster, and prescribed a mixture. Meantime I looked at her; I looked at her, you know—there, by God! I had never seen such a face!—she was a beauty, in a word! I felt quite shaken with pity. Such lovely features; such eyes!... But, thank God! she became easier; she fell into a perspiration, seemed to come to her senses, looked round, smiled, and passed her hand over her face... Her sisters bent over her. They ask, ‘How are you?’ ‘All right,’ she says, and turns away. I looked at her; she had fallen asleep. ‘Well,’ I say, ‘now the patient should be left alone.’ So we all went out on tiptoe; only a maid remained, in case she was wanted. In the parlour there was a samovar standing on the table, and a bottle of rum; in our profession one can’t get on without it. They gave me tea; asked me to stop the night... I consented: where could I go, indeed, at that time of night? The old lady kept groaning. ‘What is it?’ I say; ‘she will live; don’t worry yourself; you had better take a little rest yourself; it is about two o’clock.’ ‘But will you send to wake me if anything happens?’ ‘Yes, yes.’ The old lady went away, and the girls too went to their own room; they made up a bed for me in the parlour. Well, I went to bed—but I could not get to sleep, for a wonder! for in reality I was very tired. I could not get my patient out of my head. At last I could not put up with it any longer; I got up suddenly; I think to myself, ‘I will go and see how the patient is getting on.’ Her bedroom was next to the parlour. Well, I got up, and gently opened the door—how my heart beat! I looked in: the servant was asleep, her mouth wide open, and even snoring, the wretch! but the patient lay with her face towards me and her arms flung wide apart, poor girl! I went up to her ... when suddenly she opened her eyes and stared at me! ‘Who is it? who is it?’ I was in confusion. ‘Don’t be alarmed, madam,’ I say; ‘I am the doctor; I have come to see how you feel.’ ‘You the doctor?’ ‘Yes, the doctor; your mother sent for me from the town; we have bled you, madam; now pray go to sleep, and in a day or two, please God! we will set you on your feet again.’ ‘Ah, yes, yes, doctor, don’t let me die... please, please.’ ‘Why do you talk like that? God bless you!’ She is in a fever again, I think to myself; I felt her pulse; yes, she was feverish. She looked at me, and then took me by the hand. ‘I will tell you why I don’t want to die: I will tell you... Now we are alone; and only, please don’t you ... not to any one ... Listen...’ I bent down; she moved her lips quite to my ear; she touched my cheek with her hair—I confess my head went round—and began to whisper... I could make out nothing of it... Ah, she was delirious! ... She whispered and whispered, but so quickly, and as if it were not in Russian; at last she finished, and shivering dropped her head on the pillow, and threatened me with her finger: ‘Remember, doctor, to no one.’ I calmed her somehow, gave her something to drink, waked the servant, and went away.”
At this point the doctor again took snuff with exasperated energy, and for a moment seemed stupefied by its effects.
“However,” he continued, “the next day, contrary to my expectations, the patient was no better. I thought and thought, and suddenly decided to remain there, even though my other patients were expecting me... And you know one can’t afford to disregard that; one’s practice suffers if one does. But, in the first place, the patient was really in danger; and secondly, to tell the truth, I felt strongly drawn to her. Besides, I liked the whole family. Though they were really badly off, they were singularly, I may say, cultivated people... Their father had been a learned man, an author; he died, of course, in poverty, but he had managed before he died to give his children an excellent education; he left a lot of books too. Either because I looked after the invalid very carefully, or for some other reason; anyway, I can venture to say all the household loved me as if I were one of the family... Meantime the roads were in a worse state than ever; all communications, so to say, were cut off completely; even medicine could with difficulty be got from the town... The sick girl was not getting better... Day after day, and day after day ... but ... here...” (The doctor made a brief pause.) “I declare I don’t know how to tell you.”... (He again took snuff, coughed, and swallowed a little tea.) “I will tell you without beating about the bush. My patient ... how should I say?... Well she had fallen in love with me ... or, no, it was not that she was in love ... however ... really, how should one say?” (The doctor looked down and grew red.) “No,” he went on quickly, “in love, indeed! A man should not over-estimate himself. She was an educated girl, clever and well-read, and I had even forgotten my Latin, one may say, completely. As to appearance” (the doctor looked himself over with a smile) “I am nothing to boast of there either. But God Almighty did not make me a fool; I don’t take black for white; I know a thing or two; I could see very clearly, for instance that Aleksandra Andreyevna—that was her name—did not feel love for me, but had a friendly, so to say, inclination—a respect or something for me. Though she herself perhaps mistook this sentiment, anyway this was her attitude; you may form your own judgment of it. But,” added the doctor, who had brought out all these disconnected sentences without taking breath, and with obvious embarrassment, “I seem to be wandering rather—you won’t understand anything like this ... There, with your leave, I will relate it all in order.”
He drank off a glass of tea, and began in a calmer voice.
“Well, then. My patient kept getting worse and worse. You are not a doctor, my good sir; you cannot understand what passes in a poor fellow’s heart, especially at first, when he begins to suspect that the disease is getting the upper hand of him. What becomes of his belief in himself? You suddenly grow so timid; it’s indescribable. You fancy then that you have forgotten everything you knew, and that the patient has no faith in you, and that other people begin to notice how distracted you are, and tell you the symptoms with reluctance; that they are looking at you suspiciously, whispering... Ah! it’s horrid! There must be a remedy, you think, for this disease, if one could find it. Isn’t this it? You try—no, that’s not it! You don’t allow the medicine the necessary time to do good... You clutch at one thing, then at another. Sometimes you take up a book of medical prescriptions—here it is, you think! Sometimes, by Jove, you pick one out by chance, thinking to leave it to fate... But meantime a fellow-creature’s dying, and another doctor would have saved him. ‘We must have a consultation,’ you say; ‘I will not take the responsibility on myself.’ And what a fool you look at such times! Well, in time you learn to bear it; it’s nothing to you. A man has died—but it’s not your fault; you treated him by the rules. But what’s still more torture to you is to see blind faith in you, and to feel yourself that you are not able to be of use. Well, it was just this blind faith that the whole of Aleksandra Andreyevna’s family had in me; they had forgotten to think that their daughter was in danger. I, too, on my side assure them that it’s nothing, but meantime my heart sinks into my boots. To add to our troubles, the roads were in such a state that the coachman was gone for whole days together to get medicine. And I never left the patient’s room; I could not tear myself away; I tell her amusing stories, you know, and play cards with her. I watch by her side at night. The old mother thanks me with tears in her eyes; but I think to myself, ‘I don’t deserve your gratitude.’ I frankly confess to you—there is no object in concealing it now—I was in love with my patient. And Aleksandra Andreyevna had grown fond of me; she would not sometimes let any one be in her room but me. She began to talk to me, to ask me questions; where I had studied, how I lived, who are my people, whom I go to see. I feel that she ought not to talk; but to forbid her to—to forbid her resolutely, you know—I could not. Sometimes I held my head in my hands, and asked myself, “What are you doing, villain?”... And she would take my hand and hold it, give me a long, long look, and turn away, sigh, and say, ‘How good you are!’ Her hands were so feverish, her eyes so large and languid... ‘Yes,’ she says, ‘you are a good, kind man; you are not like our neighbours... No, you are not like that... Why did I not know you till now!’ ‘Aleksandra Andreyevna, calm yourself,’ I say... ‘I feel, believe me, I don’t know how I have gained ... but there, calm yourself... All will be right; you will be well again.’ And meanwhile I must tell you,” continued the doctor, bending forward and raising his eyebrows, “that they associated very little with the neighbours, because the smaller people were not on their level, and pride hindered them from being friendly with the rich. I tell you, they were an exceptionally cultivated family; so you know it was gratifying for me. She would only take her medicine from my hands ... she would lift herself up, poor girl, with my aid, take it, and gaze at me... My heart felt as if it were bursting. And meanwhile she was growing worse and worse, worse and worse, all the time; she will die, I think to myself; she must die. Believe me, I would sooner have gone to the grave myself; and here were her mother and sisters watching me, looking into my eyes ... and their faith in me was wearing away. ‘Well? how is she?’ ‘Oh, all right, all right!’ All right, indeed! My mind was failing me. Well, I was sitting one night alone again by my patient. The maid was sitting there too, and snoring away in full swing; I can’t find fault with the poor girl, though; she was worn out too. Aleksandra Andreyevna had felt very unwell all the evening; she was very feverish. Until midnight she kept tossing about; at last she seemed to fall asleep; at least, she lay still without stirring. The lamp was burning in the corner before the holy image. I sat there, you know, with my head bent; I even dozed a little. Suddenly it seemed as though some one touched me in the side; I turned round... Good God! Aleksandra Andreyevna was gazing with intent eyes at me ... her lips parted, her cheeks seemed burning. ‘What is it?’ ‘Doctor, shall I die?’ ‘Merciful Heavens!’ ‘No, doctor, no; please don’t tell me I shall live ... don’t say so... If you knew... Listen! for God’s sake don’t conceal my real position,’ and her breath came so fast. ‘If I can know for certain that I must die ... then I will tell you all— all!’ ‘Aleksandra Andreyevna, I beg!’ ‘Listen; I have not been asleep at all ... I have been looking at you a long while... For God’s sake!... I believe in you; you are a good man, an honest man; I entreat you by all that is sacred in the world—tell me the truth! If you knew how important it is for me... Doctor, for God’s sake tell me... Am I in danger?’ ‘What can I tell you, Aleksandra Andreyevna, pray?’ ‘For God’s sake, I beseech you!’ ‘I can’t disguise from you,’ I say, ‘Aleksandra Andreyevna; you are certainly in danger; but God is merciful.’ ‘I shall die, I shall die.’ And it seemed as though she were pleased; her face grew so bright; I was alarmed. ‘Don’t be afraid, don’t be afraid! I am not frightened of death at all.’ She suddenly sat up and leaned on her elbow. ‘Now ... yes, now I can tell you that I thank you with my whole heart ... that you are kind and good—that I love you!’ I stare at her, like one possessed; it was terrible for me, you know. ‘Do you hear, I love you!’ ‘Aleksandra Andreyevna, how have I deserved—’ ‘No, no, you don’t—you don’t understand me.’... And suddenly she stretched out her arms, and taking my head in her hands, she kissed it... Believe me, I almost screamed aloud... I threw myself on my knees, and buried my head in the pillow. She did not speak; her fingers trembled in my hair; I listen; she is weeping. I began to soothe her, to assure her... I really don’t know what I did say to her. ‘You will wake up the girl,’ I say to her; ‘Aleksandra Andreyevna, I thank you ... believe me ... calm yourself.’ ‘Enough, enough!’ she persisted; ‘never mind all of them; let them wake, then; let them come in—it does not matter; I am dying, you see... And what do you fear? why are you afraid? Lift up your head... Or, perhaps, you don’t love me; perhaps I am wrong... In that case, forgive me.’ ‘Aleksandra Andreyevna, what are you saying!... I love you, Aleksandra Andreyevna.’ She looked straight into my eyes, and opened her arms wide. ‘Then take me in your arms.’ I tell you frankly, I don’t know how it was I did not go mad that night. I feel that my patient is killing herself; I see that she is not fully herself; I understand, too, that if she did not consider herself on the point of death, she would never have thought of me; and, indeed, say what you will, it’s hard to die at twenty without having known love; this was what was torturing her; this was why, in despair, she caught at me—do you understand now? But she held me in her arms, and would not let me go. ‘Have pity on me, Aleksandra Andreyevna, and have pity on yourself,’ I say. ‘Why,’ she says; ‘what is there to think of? You know I must die.’ ... This she repeated incessantly ... ‘If I knew that I should return to life, and be a proper young lady again, I should be ashamed ... of course, ashamed ... but why now?’ ‘But who has said you will die?’ ‘Oh, no, leave off! you will not deceive me; you don’t know how to lie—look at your face.’ ... ‘You shall live, Aleksandra Andreyevna; I will cure you; we will ask your mother’s blessing ... we will be united—we will be happy.’ ‘No, no, I have your word; I must die ... you have promised me ... you have told me.’ ... It was cruel for me—cruel for many reasons. And see what trifling things can do sometimes; it seems nothing at all, but it’s painful. It occurred to her to ask me, what is my name; not my surname, but my first name. I must needs be so unlucky as to be called Trifon. Yes, indeed; Trifon Ivanich. Every one in the house called me doctor. However, there’s no help for it. I say, ‘Trifon, madam.’ She frowned, shook her head, and muttered something in French—ah, something unpleasant, of course!—and then she laughed—disagreeably too. Well, I spent the whole night with her in this way. Before morning I went away, feeling as though I were mad. When I went again into her room it was daytime, after morning tea. Good God! I could scarcely recognise her; people are laid in their grave looking better than that. I swear to you, on my honour, I don’t understand—I absolutely don’t understand—now, how I lived through that experience. Three days and nights my patient still lingered on. And what nights! What things she said to me! And on the last night—only imagine to yourself—I was sitting near her, and kept praying to God for one thing only: ‘Take her,’ I said, ‘quickly, and me with her.’ Suddenly the old mother comes unexpectedly into the room. I had already the evening before told her—-the mother—there was little hope, and it would be well to send for a priest. When the sick girl saw her mother she said: ‘It’s very well you have come; look at us, we love one another—we have given each other our word.’ ‘What does she say, doctor? what does she say?’ I turned livid. ‘She is wandering,’ I say; ‘the fever.’ But she: ‘Hush, hush; you told me something quite different just now, and
have taken my ring. Why do you pretend? My mother is good—she will forgive—she will understand—and I am dying. ... I have no need to tell lies; give me your hand.’ I jumped up and ran out of the room. The old lady, of course, guessed how it was.
“I will not, however, weary you any longer, and to me too, of course, it’s painful to recall all this. My patient passed away the next day. God rest her soul!” the doctor added, speaking quickly and with a sigh. “Before her death she asked her family to go out and leave me alone with her.”
“‘Forgive me,’ she said; ‘I am perhaps to blame towards you ... my illness ... but believe me, I have loved no one more than you ... do not forget me ... keep my ring.’”
The doctor turned away; I took his hand.
“Ah!” he said, “let us talk of something else, or would you care to play preference for a small stake? It is not for people like me to give way to exalted emotions. There’s only one thing for me to think of; how to keep the children from crying and the wife from scolding. Since then, you know, I have had time to enter into lawful wedlock, as they say... Oh ... I took a merchant’s daughter—seven thousand for her dowry. Her name’s Akulina; it goes well with Trifon. She is an ill-tempered woman, I must tell you, but luckily she’s asleep all day... Well, shall it be preference?”
We sat down to preference for halfpenny points. Trifon Ivanich won two rubles and a half from me, and went home late, well pleased with his success.
УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ
Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, — только он, ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.
— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете… Ну, всё равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, — должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного… Ну, хорошо, — это, понимаете, наш хлеб… Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще всё ничего… Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят… Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, всё в соображенье принимай… Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться… Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры, — перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении…» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», — докторская, знаете, обязанность, — и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, — ну, ей-богу, не видал еще такого лица… красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза… Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела… Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего», — говорит, да и отворотилась… Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать… Я согласился: куда теперь ехать! Старушка всё охает. «Чего вы? — говорю. — Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». — «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, — только не могу заснуть, — что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Всё моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел… Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». — «Вы доктор?» — «Доктор, доктор… Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть… пожалуйста, пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу… теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому… послушайте…» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать… Ничего не понимаю… Ах, да это она бредит… Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому…» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.
Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табаку и на мгновение оцепенел.
— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали… А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость… Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного… Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось… Больная не поправлялась… День за день, день за день… Но вот-с… тут-с… (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с… (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя… как бы это того… ну, полюбила, что ли, меня… или нет, не то чтобы полюбила… а, впрочем… право, как это, того-с… (Лекарь потупился и покраснел.)
— Нет, — продолжал он с живостью, — какое полюбила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите… Впрочем, — прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, — я, кажется, немного зарапортовался… Этак вы ничего не поймете… а вот, позвольте, я вам всё по порядку расскажу.
Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.
— Так, так-то-с. Моей больной всё хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты всё, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся… э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать… то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу… ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба… А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие всё семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, — расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи… нет, вы не такой, вы не такой… Как это я до сих пор вас не знала!» — «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю… я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил… только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь… всё хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала… приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня… сердце у меня так и покатится. А между тем ей всё хуже становилось, всё хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят… и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую… Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи всё металась; наконец словно заснула; по крайней мере не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я… Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит… губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива… не говорите… если б вы знали… послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит. — Если я буду знать наверное, что я умереть должна… я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу… ради бога… я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, — скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно… Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна, — помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, — вы точно в опасности, но бог милостив…» — «Я умру, я умру…» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь… ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю…» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете… «Слышите ли, я люблю вас…» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете… ты меня не понимаешь…» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала… Поверите ли, я чуть-чуть не закричал… бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять… я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна… благодарю вас… верьте… успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — всё равно: ведь умру же я… Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову… Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась… в таком случае извините меня». — «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня…» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть…» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно… а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение… мы соединимся узами, мы будем счастливы». — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть… ты мне обещал… ты мне сказал…» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрипела моя больная… и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же… Вдруг старушка мать — шасть в комнату… Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла… посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар…» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял… что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку…» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.
— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело всё это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами… болезнь… но, поверьте, я никого не любила более вас… не забывайте же меня… берегите мое кольцо…»
Лекарь отвернулся; я взял его за руку.
— Эх! — сказал он, — давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел… Как же… Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день… А что ж преферанс?
Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.
The District Doctor (e-book)
[1] first published in Saint Petersburg with 15 stories in 1852, and considerably expanded later.